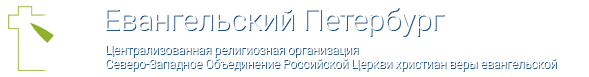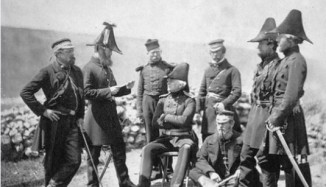Как философские поиски приводят к живому христианству
Стремление человека познать окружающий мир огромно, человека в этом его стремлении остановить нельзя. Согласитесь, благодаря науке мир на наших глазах меняется невероятными темпами. Это не может не восхищать. Наука пытается разгадать скрытый замысел Бога и в попытке этой разгадки создаёт то, что помогает человечеству.
Бесконечна ли вселенная во времени и пространстве? Возникает ли жизнь каждый раз заново или она вечна и неразрывно связана с пространством-временем и материей? Развивается мир по строго определённым законам или его развитие определяется хаотичными процессами? Наконец, какое место в мире занимает сам человек?
Ответы на многие вопросы искал один необыкновенный русский человек, учёный, врач-хирург, анатом, педагог, общественный деятель, основоположник военно-полевой хирургии и анатомо-экспериментального направления в хирургии Николай Иванович Пирогов.
Вопросы жизни
Будущий великий врач родился 27 ноября 1810 года в Москве. Его отец служил казначеем. В 1824 году он с отличием окончил пансион B. C. Кряжева. Известный московский врач, профессор Московского университета Е. Мухин заметил способности мальчика и стал заниматься с ним индивидуально. Когда Николаю исполнилось четырнадцать лет, он поступил на медицинский факультет Московского университета. Для этого ему пришлось прибавить себе два года. Пирогову удалось устроиться на должность прозектора в анатомическом театре. Окончив университет, Пирогов направился для подготовки к профессорской деятельности в Юрьевский университет города Тарту. Здесь, в хирургической клинике, Пирогов проработал пять лет, защитил докторскую диссертацию, совершенствуя свои знания в Берлине и Париже, и в двадцать шесть лет стал профессором Медико-хирургической академии в Петербурге.
С 1841 года Пирогов сделал хирургию наукой. Он создал образцовые по точности анатомические атласы. Впервые в России выступил с идеей пластических операций. Первый в мире выдвинул идею костной пластики, применил наркоз в военно-полевой хирургии, впервые наложил гипсовую повязку в полевых условиях. В 1847 году стал членом-корреспондентом Российской академии наук. Во время Севастопольской обороны (1854–1855), когда «возможность умереть возрастает... до 36400 раз в сутки (число неприятельских выстрелов)», делал виртуозные операции.
Известны Севастопольские письма Пирогова, в которых содержался, кроме прочего, исторический обзор действий Крестовоздвиженской Общины сестёр попечения о раненых и больных в военных госпиталях в Крыму и Херсонской губернии в 1954–55 годах. Руководивший военной медициной осаждённого города Пирогов, призвал «употребить все свои силы и познания для пользы армии на боевом поле» медсестёр Крестовоздвиженской общины Петербурга, созданной по инициативе и на средства Великой княгини Елены Павловны, вдовы младшего брата императора Николая I Великого князя Михаила. Уже в ноябре 1854 года из столицы в Севастополь прибыли три отряда сестёр милосердия. И с их помощью Пирогов смог за 12 дней навести порядок в госпиталях.
В 1856 году Пирогов выступил со статьёй «Вопросы жизни», где говорил о необходимости коренной ломки существующей системы образования: школа должна растить не чиновника для государственного аппарата, а порядочного человека, гражданина. Оставив профессорскую кафедру, Пирогов стал попечителем Одесского, затем Киевского учебного округа. С 1866 года жил в своём имении в селе Вишня, где открыл больницу, аптеку и передал землю крестьянам в дар. В 1879–1881 годах работал над «Дневником старого врача», завершив рукопись незадолго до кончины.
В поисках Бога
Пирогов не считал себя философом и не претендовал быть им, но в действительности у него было цельное и продуманное философское миропонимание. До поступления в университет Пирогов всецело проникнут религиозным мировоззрением, но, став студентом, он довольно быстро усвоил те взгляды, которыми была пропитана тогда медицина. Материализм импонировал его юному уму простотой и ясностью картины мира: «Я — один из тех, — писал Пирогов в «Дневнике», — кто, едва сошед со студенческой скамьи, с жаром предавался эмпирическому направлению науки, несмотря на то, что вокруг всё ещё простирались дебри натуральной и гегелевской философии». Добросовестным исследователем фактов Пирогов остался на всю жизнь. Для Пирогова характерна именно безостановочная работа ума, не позволяющая застыть навсегда на каких-либо положениях. И, прежде всего, Пирогову стала ясна «неосновательность» материализма, а главное, стало нестерпимо то «обожание случая», как он выражался, какое царит в науке. Случаю повсюду в науке отводится такое непомерное место, что с этим совершенно не может мириться наш ум. С другой стороны, атомистическое учение о материи нисколько не вводит нас в тайну вещества.
«Остановиться мыслью на вечно движущихся и вечно существовавших атомах я не могу теперь: вещество бесконечно делимое, движущееся и бесформенное само по себе, как-то случайно делается ограниченным и оформленным».
«Атом — понятие отвлечённое»; «вещество вообще мне кажется таким же беспредельным, как пространство, время, сила и жизнь». «Невозможно думать, что во всей вселенной наш мозг является единственным органом мышления, что всё в мире кроме нашей мысли безумно и бессмысленно. Поэтому мне кажется правдоподобным другое предположение, что наше «я» привносится извне». Это и есть новое понимание Пирогова, согласно которому наше «я» «не есть продукт химических и гистологических элементов, а олицетворение общего, вселенского разума». «Это открытие собственным своим мозговым мышлением мышления мирового... и есть то, почему мой ум, — пишет Пирогов, — не мог остановиться на атомах, ощущающих, сознающих себя... без участия другого, высшего сознания и мысли. Для меня неоспоримо то, что высшая мировая мысль, избравшая своим органом вселенную, проникая и группируя атомы в известную форму, сделала и мой мозг органом мышления».
Это новое учение о мировом мышлении становится исходным пунктом мировоззрения Пирогова. «Мировое сознание, — пишет он, — становится моим индивидуальным — посредством особенного механизма, заключающегося в нервных центрах. Как это происходит, мы, конечно, не знаем. Но то для меня несомненно, что моё сознание, моя мысль и присущее моему уму стремление к отысканию целей и причин не может быть чем-то отрывочным и единичным... то есть не имеющим ничего выше себя».
Это высшее начало, стоящее над миром, сообщающее ему жизнь и разумность, пока для Пирогова открывается как «мировое мышление», как «вселенский разум». Но постепенно он пришёл к сознанию, что «основать точку опоры на вселенной — значит строить на песке». «Мой бедный ум, — пишет тут же Пирогов, — останавливаясь вместо Бога на вселенной, благоговел перед ней как перед беспредельным и вечным началом». Но вселенная «есть лишь проявление и обнаружение творческой мысли, для понимания же бытия необходимо найти неизменную, абсолютную почву». Отсюда Пирогов и приходит к мысли, что должно признать над мировым сознанием Абсолют: «Надо признать верховный разум и верховную волю Творца». Так Пирогов шаг за шагом начинает отводить место вере. У него было решительное и глубокое отвращение к тому «обожанию случая», которое, по мнению Пирогова, держит в плену испытующую мысль. Он приходит к мысли, что случайного ничего нет, нет ничего беспричинного, где всё кажется нам сочетанием случайностей, надо признать руководство Бога. Важнейшим результатом освобождения нашего духа, после стадии сомнений и освобождения от ограниченности «последовательного» умствования, является вера. Пирогов утверждает, что вера открывает и начинает для нас путь познания. В этой высшей стадии вера становится силой, связующей нас с Богом. Если «способность познания, основанная на сомнении, не допускает веры, то, наоборот, вера становится выше всякого знания и, помимо его, стремится к достижению истины». И здесь Пирогов с полной решительностью отошёл от понятия чистого ума, и обратился к христианству. Вера для Пирогова стала означать живое ощущение Бога.
Каждый из нас пытается ответить на вопросы, его волнующие, в поисках истины мы тратим время и силы. Думаю, стоит воспользоваться опытом врача-хирурга Николая Пирогова, потому что, действительно, вещество бесконечно делимое, движущееся и бесформенное не может случайно стать ограниченным и оформленным без участия Творца.
Татьяна Четина
По материалам ВиО СПБ