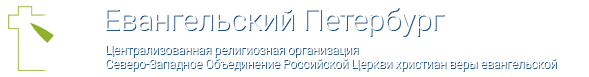Я до сих пор не могу спокойно смотреть, как с кухонного стола смахивают хлебные крошки.
Нет, я, конечно, молчу, но внутри меня все переворачивается.
Она говорила, что их колонна, двигавшаяся по заснеженному льду Ладожского озера, была похожа на черную нитку, которую тянут через белую простыню.
А вот моя бабушка, увидев такое, никогда б не промолчала. Если бы, не дай Бог, она увидела меня сметающим со стола хлебные крошки, она бы спустила с меня шкуру прямо на месте.
Когда на кухонном столе случайно оказывалось что-то съедобное, бабушка бережно собирала это в ладошку и тотчас отправляла в рот. Только так и никак иначе, ведь человек, переживший блокаду, по-другому просто не мог.
Однажды в поисках закатившейся игрушки я заглянул под бабушкин диван. Увиденное потрясло меня до глубины души. Под диваном стояли десятки консервных банок. Сгущёнка, тушенка, зелёный горошек и многое другое. Может быть кто-то и посмеялся бы над этим, но не я. Я спросил бабушку, для чего ей это. «Это мой стратегический запас, — ответила она. — Мне легче спится, когда я знаю, что консервов под диваном хватит как минимум на полгода».
Бабушка много рассказывала мне о блокаде. Это были бесценные уроки так называемой альтернативной истории. Как и любой советский человек я слышал очень много помпезного официоза, касавшегося блокады Ленинграда. Но то, что рассказывала мне бабушка, было правдой, а потому становилось настоящим откровением.
Она говорила мне о том, как в блокадном Ленинграде очень быстро исчезли голуби. Потом собаки и кошки. Их просто съели, но это было не самое страшное. Когда ударили морозы, некоторые обезумевшие от голода горожане стали есть трупы. Но и это было не самым ужасным.
Самым ужасным было то, что на улицу нельзя было отпускать маленьких детей. Их могли украсть и съесть.
Об этом не писали в Пионерской правде и не рассказывали на торжественных линейках. Это был настоящий ужас войны, к которому никогда нельзя привыкнуть или приготовиться.
«Наша семья выжила только потому, что у нас был спирт, — рассказывала бабушка. — Ведь спирт, наряду с мылом и табаком, был настоящей жидкой валютой в осажденном городе. На него можно было обменять все, что угодно: одежду, консервы или хлеб». Источником спирта был мой дед, долгое время работавший шлифовальщиком на ЛОМО. Оттуда у него и был большой запас этого ценнейшего вещества. Именно дармовой спирт, в конце концов, и свёл его в могилу, но это уже другая история.
Не дожидаясь пока придёт повестка, дедушка пошёл добровольцем на фронт. Как высококлассному водителю ему доверили «Полуторку» и отправили на «Дорогу Жизни». Через месяц его грузовик разбомбили, а дедушка, чудом выживший и получивший тяжелейшее ранение, отправился в госпиталь. Он молчал как рыба, не рассказывая о тех временах ничего. Но бабушкины рассказы с лихвой компенсировали молчание деда.
Бабушка со своей семьёй эвакуировалась по зимней дороге жизни. Когда я спросил её, сколько зениток прикрывали ее эвакуацию, она рассмеялась и ответила: «Ни одной!». Она говорила, что их колонна, двигавшаяся по заснеженному льду Ладожского озера, была похожа на черную нитку, которую тянут через белую простыню.
Люфтваффе расстреливало их как в тире. Самолеты заходили в пике раз за разом, не торопясь. Они тщательно прицеливались, экономя боезапас. Одна машина с людьми ушла под лёд спереди, другая утонула сзади, и бабушка говорила, что до самой смерти будет помнить улыбающееся лицо фашиста, сидевшего за штурвалом самолёта. Настолько низко они подлетали к едущим по льду машинам. Когда бабушка рассказывала это, ее лицо вытягивалось от ужаса, а глаза наполнялись слезами. Снова и снова она переживала трагедию своего отъезда.
Прошло много лет, бабушка и дед давным-давно покинули этот мир. Я был молодым христианином и вместе с моим отцом гостил в одной из Гатчинских церквей. Дело было в начале девяностых, и, как часто тогда бывало, в церковь приехала целая делегация гостей из Европы. Весёлые, сытые, хорошо одетые, они излучали уверенность и оптимизм. Я ждал очередной проповеди о процветании, но то, что случилось тогда, я буду помнить долго.
Руководитель группы — старый седой немец — попросил слова. Ему с радостью предоставили кафедру, а он вышел и серьезно сказал, что ждал этого момента очень много лет. Все затихли, потому что поняли — сейчас будет что-то серьезное. Он опустил голову и сказал, что хочет покаяться.
После этого он спросил, есть ли здесь люди, пережившие блокаду Ленинграда, или их родственники. Наверное, треть зала подняли руки. А он встал на колени, сказал, что хочет попросить прощения у них лично и у потомков тех, кого он бомбил с сорок первого по сорок четвёртый.
Я хорошо помню его стоящим на коленях перед скромной церковной кафедрой. Я помню, как тряслась его склонённая седая голова, когда он называл те направления, где наносил удары его штурмовик. Ленинград и Колпино, Гатчина и Красное село, Кронштадт и Дорога жизни. Помню ошарашенное лицо переводчика, явно не ожидавшего такого поворота событий.
Он говорил, не вставая с колен, а когда закончил, произнёс: «Хоть я и выполнял приказы, но я несу полную ответственность за те военные преступления, которые совершил. Я приехал к вам просить у вас прощения. Простите меня ради Христа, дорогие братья и сестры».
Немец замолчал, опустив голову, и в маленькой Гатчинской церкви повисла неловкая тишина. Дьяконы переглядывались в недоумении, не зная, что же делать дальше. И вдруг с последних рядов прозвучал старческий голос: «Можно я помолюсь за нашего гостя?». Это была сестра Люда, недавно разменявшая восьмой десяток, пережившая блокаду от начала и до конца. Она медленно прошла к кафедре, подняла руки и стала молиться: «Дорогой Небесный Отец, Ты простил все наши грехи во Христе Иисусе, Своём Единородном Сыне, прости и помилуй моего возлюбленного брата из Германии, Ты видишь, Господи, он раскаивается в прахе и пепле, благослови его и дай ему ощутить Твоё Божественное прощение».
Если завтра вам покажется, что ваши грехи слишком велики, чтобы Бог простил их, или вы решите, что против вас согрешили слишком тяжело, чтобы вы могли это простить, просто вспомните последнего немца, прошедшего по Гатчине. Его простил не только Бог, но и люди, перед которыми он каялся.
Антон Абрамов